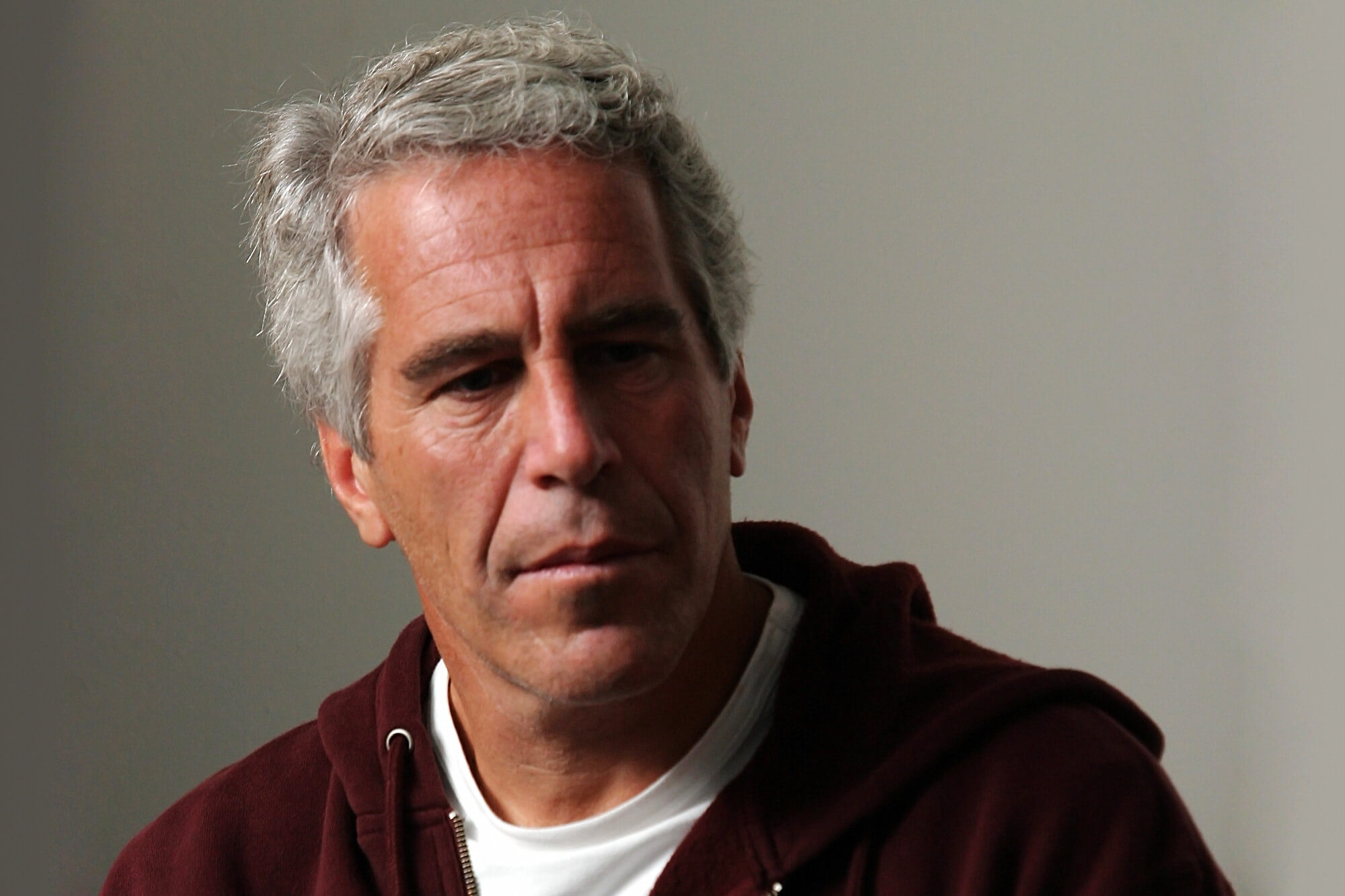Для КНР она может оказаться роковой
Для КНР она может оказаться роковой
Рост напряженности в отношениях США и Ирана — тема горячая. Как и «обмен резкими заявлениями» между Вашингтоном и Тегераном. Вот и теперь госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter тоже резко высказался в адрес духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи: по словам Помпео, «Хаменеи мнит себя лидером исламского мира, но его правительство полностью игнорирует то, что Китай — главный покупатель иранской нефти — преследует и отправляет в заключение сотни тысяч мусульман».
В Азербайджане, где прекрасно осведомлены о нежной дружбе Тегерана и Еревана, вряд ли кому-то надо объяснять, что между иранскими декларациями об «исламской солидарности» и реальной политикой ИРИ есть нешуточный люфт. Стремление США сорвать планы Ирана добиться лидерства на «мусульманской» улице — тем более не новость. Журналисты и эксперты уже не первый месяц обсуждают, в частности, попытки США сколотить некий «антииранский фронт» в основном из арабских стран Персидского Залива.
Однако на сей раз куда большее внимание привлекает другое: госсекретарь США говорил о массовом притеснении мусульман в Китае. Более того, заявление Помпео прозвучало вскоре после того, как в СМИ заговорили о возможности введения Вашингтоном санкций против КНР — опять-таки за притеснение мусульман, прежде всего уйгуров.
Об этом, в частности, сообщила несколькими днями ранее The New York Times. По ее сведениям, администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о наложении на Китай санкций за нарушения прав уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств в Китае.
 Речь идет о заключении уйгуров и других исповедующих ислам нацменьшинств в специальные лагеря, где детей заставляют отказываться от ислама, изучать китайскую культуру и демонстрировать лояльность Коммунистической партии. В Пекине это называют «трансформацией через обучение». Уже известен и примерный перечень санкций. В частности, Белый дом планирует запретить продажу КНР американских технологий видеонаблюдения, которые, по данным США, китайское правительство использует для слежки за уйгурами.
Речь идет о заключении уйгуров и других исповедующих ислам нацменьшинств в специальные лагеря, где детей заставляют отказываться от ислама, изучать китайскую культуру и демонстрировать лояльность Коммунистической партии. В Пекине это называют «трансформацией через обучение». Уже известен и примерный перечень санкций. В частности, Белый дом планирует запретить продажу КНР американских технологий видеонаблюдения, которые, по данным США, китайское правительство использует для слежки за уйгурами.
О том, как это работает, еще в конце августа рассказывала El Confidential: уйгурскому активисту, которого сочли «неблагонадежным», делают соответствующую отметку в удостоверении личности. На деле это означает, что ему невозможно пользоваться общественным транспортом, входить в административные здания и даже торговые центры. Кроме того, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР используются беспилотники для слежения за границами и ключевыми объектами, «на АЗС и в других местах установлены камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц», «создаются базы данных ДНК», «идут эксперименты с устройствами, распознающими голос и радужную оболочку глаза». Еще в феврале Human Rights Watch разоблачила использование больших данных для сбора информации о гражданах без их согласия.
Тогда же, в феврале, впервые появилась и информация, что в Китае около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом, во всяком случае, сообщала CNN со ссылкой на Radio Free Asia. На этой территории власти создали политические лагеря, где «перевоспитывают» десятки тысяч уйгуров. Там они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который им не родной. Такие действия центрального правительства вызывают резкое осуждение со стороны активистов борьбы за права человека и местных жителей. «Из каждого двора, из каждой семьи забирают по три-четыре человека, — заявлял журналистам Омер Кенат, председатель комитета всемирного уйгурского конгресса. — В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети, всех мужчин увели в лагеря».
Теперь же появились сведения, что не менее жестоким репрессиям подвергаются не только уйгуры, но и татары. Как напоминает татарская редакция радио «Свобода», в КНР проживает около 8000 татар. В основном, это потомки татарских предпринимателей, обосновавшихся в районе Урумчи, нынешней столице СУАР, в конце XIX — начале ХХ века. Сегодня под ударом оказались и они. Поездка в Турцию, участие в творческом вечере «нелюбимого» властями КНР писателя, в том числе за рубежом — поводом для репрессий может стать все что угодно.
Под ударом и казахи. Заговорить об их положении многих заставила история казашки из Китая — Сайрагуль Сауытбай. Ее семья перебралась в Казахстан, но самой Сарайгуль китайские власти не давали разрешения на выезд, рассчитывая, что таким образом вернутся в КНР и родственники Сарайгуль. В итоге женщина решилась на нелегальный переход границы. Ее задержали по запросу из Китая, где ей в случае экстрадиции грозила бы смертная казнь. Казахский суд приговорил Сарайгуль к шести месяцам тюрьмы условно и освободил в зале суда. Именно Сарайгуль Саутбай и рассказала на суде о лагерях по перевоспитанию мусульман: «Фактически это тюрьма, расположенная в горах. В лагере, в котором я работала, находились одни казахи. Также я слышала, что есть еще два подобных лагеря». По ее словам, раскрытие информации об этническом составе отбывающих наказание в лагерях людей и их количестве интерпретируют как предательство.
Впрочем, как сквозь зубы признают многие, начиная с 1949 года, когда Мао Цзэдун установил контроль над Синьцзяном, доблестно потопив в крови провозглашенную в 1944 году в Кашгаре Восточно-Туркестанскую революционную республику, репрессии против уйгуров проводились здесь постоянно. Восстания тоже вспыхивали регулярно. Другое дело, что за прочность своей власти Пекин не особенно волновался. СУАР граничил в основном с СССР, а в Москве, как бы плохо ни складывались отношения с Китаем, по поводу уйгуров предпочитали никаких планов не строить, понимая, как подействует на собственные тюркоязычные народы прецедент выхода китайских тюрок из-под власти Пекина. В результате если о «тибетской проблеме» в мире еще писали и говорили, далай-лама колесил по странам и раздавал интервью, а в тибетскую колонию в индийском городке Дхарамсала посещали и иностранные журналисты, и голливудские кинозвезды, то о трагедии уйгуров знали разве что они сами и их соседи по региону, которые в условиях советской репрессивной системы тоже не очень-то решались об этом говорить.
Но с распадом СССР ситуация начала меняться. По ту сторону границы была уже не «новая историческая общность — советский народ», а независимые тюркоязычные государства Центральной Азии. А это не только неудобный прецедент, но и опасность неудобных решений, как показывает пример Сарайгуль Саутбай.
Но самое главное, был сломан «заговор молчания». В конце девяностых годов о массовых репрессиях и даже массовых расстрелах в СУАР одними из первых заговорили японские газеты со ссылкой на источники в Анкаре. О жестоком подавлении восстания уйгуров в 2008-2009 годах писали уже многие мировые СМИ. Теперь же о притеснении мусульман заговорил госсекретарь США.
Более того, положение в СУАР «сопрягается» с еще одной проблемой — геноцидом мусульман-рохинджа в Мьянме. Их трагедию мир до последнего времени тоже не замечал. Но теперь многое изменилось. Как передавало Би-Би-Си еще в конце августа, в докладе миссии комитета ООН по правам человека по изучению ситуации в Мьянме говорится прямым текстом: действия правительства и вооруженных сил Мьянмы против народа рохинджа несут признаки геноцида и должны быть расследованы. Жесткой критике подвергается и лидер страны Аун Сан Су Чжи, недавняя «икона» правозащитного движения и лауреат Нобелевской премии мира, которая то ли не может, то ли не желает остановить насилие. Как указывают авторы доклада, по самым «консервативным» оценкам жертвами массовых убийств стали десять тысяч человек, число беженцев оценивают в 700 тысяч.
При этом правительство Мьянмы получает нешуточную поддержку от Китая — и военную, и экономическую, и политическую. Как напоминают, в частности, турецкие эксперты, именно Китай, постоянный член СБ ООН с правом вето, блокирует все инициативы, направленные на обуздание действий силовиков Мьянмы.
Формально Китай здесь как бы ни при чем. Но, во-первых, ответственность за союзника никто не отменял. А во-вторых, если у двух союзников возникают — пусть и с разной степенью «остроты» — сходные проблемы, это уже трудно назвать совпадением.
И теперь, когда о притеснении мусульман уже заговорили на уровне ООН, в США разрабатывается проект санкций, а госсекретарь Помпео обвиняет Хаменеи в предательстве китайских мусульман, это уже очень плохая новость для Пекина. Дело не в экономическом или «техническом» эффекте от санкций как таковых. Главное, что геноцид уйгуров перестает быть исключительно «внутренней проблемой» КНР. Международное внимание к проблемам уйгуров выходит на новый, крайне опасный для Пекина уровень. Иметь дело с симпатиями голивудской богемы к далай-ламе — это одно, а столкнуться с реальным международным давлением, которое наверняка будет включать в себя и реальную поддержку уйгурскому движению — уже другое. И да, напомним в который уже раз: Китай — не просто «лидер экономического роста» и родина очередного экономического чуда. Это многонациональное государство, где национальные окраины, как в СССР, подчиняли силой и держат в повиновении за счет репрессий. Такие государства могут внешне казаться стабильными и непоколебимыми, но в какой-то момент империи, как и тресты, лопаются изнутри.
И вот тут уже уместно вспомнить, как британская The Financial Times, комментируя потопленное в крови восстание уйгуров в 2009 году, отмечала: «Когда в 1991 году распался Советский Союз, внезапно стало ясно, что СССР никогда не был настоящей страной. Это была многонациональная империя, удерживаемая вместе при помощи силы. Сможем ли мы когда-нибудь сказать то же самое о Китае?» «В стране, где живет 1,3 миллиарда человек, 2,6 миллиона в Тибете и 20 миллионов в Синьцзяне могут показаться чем-то незначительным. Но вместе они занимают около трети континентальной территории Китая, и на их долю приходится существенная часть запасов нефти и газа этой страны, которых ей явно не хватает», — напоминала FT, отмечая, что «китайцы боятся, что мусульманский Синьцзян может отойти к Средней Азии.» А затем переходила к главному: «Сегодня кажется, что активисты, проводящие кампании в поддержку Синьцзяна и Тибета, находятся в одиночестве и полностью побеждены. Именно такова зачастую судьба защитников безвестных и угнетенных народов. Изгнанники из стран Балтии и из Украины, поддерживавшие в советскую эпоху стремление своих стран к свободе, на протяжении десятилетий казались эксцентричными и безопасными чудаками. Они изначально были поборниками проигрышного дела. Но в один прекрасный день эти люди победили».
Нурани, политический обозреватель Minval.az